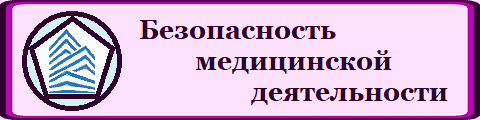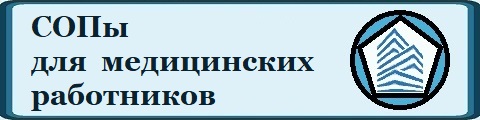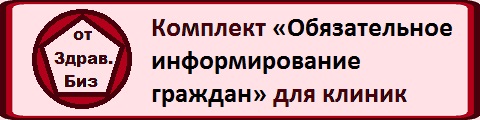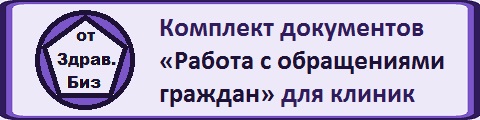Вопросы охраны здоровья граждан и организации здравоохранения, качества и безопасности медицинской деятельности и качества медицинской помощи не могут рассматриваться в отрыве от проблем обеспечения здравоохранения квалифицированными кадрами. В этой связи, неоспоримым постулатом о необходимости кадрового обеспечения отрасли и улучшения качества подготовки специалистов удобно предварять любую публикацию на нашем сайте. Действительно, это вопрос национальной безопасности и общественного благополучия. Что ж, не будем нарушать традицию.
Государство должно создавать институты, претворяющие обозначенный постулат в жизнь, и позаботиться о том, чтобы они были эффективными. Одним из таких институтов в нашей стране на протяжении полувека являлась интернатура, как важнейший этап профессионального становления молодых специалистов с высшим медицинским или фармацевтическим образованием. Профессиональное медицинское образование предполагает выработку у будущего врача клинического мышления, которое он, окончив медицинский вуз, должен укрепить как можно быстрее в интернатуре или ординатуре, ибо без этого как врач он рискует не состояться и может принести огромный вред людям[1].
Институционально интернатура представляет собой учебный процесс, протекающий с полным погружением в реальную практическую работу, что позволяет полученным в вузе теоретическим знаниям оформиться в профессиональное содержание специалиста. В интернатуре вчерашний студент с помощью опытных коллег обретает бесценные навыки самостоятельной работы в первичном звене здравоохранения. И это главное, что нужно иметь в виду при обсуждении любых вопросов, касающихся интернатуры.
Прошлая жизнь
Интернатура в нашей стране в официальных документах появилась в 1967 году, когда Совмином СССР было принято предложение союзного Минздрава о проведении соответствующего эксперимента для выпускников четырёх ведущих медицинских вузов[2]. В качестве обязательного этапа подготовки по основным клиническим специальностям интернатура была определена в 1968 году[3]. В 1972 году Министерством здравоохранения совместно с Министерством высшего и среднего специального образования СССР было утверждено Положение об одногодичной специализации (интернатуре) выпускников лечебных и педиатрических факультетов медицинских институтов и медицинских факультетов университетов[4]. По завершению эксперимента интернатура стала обязательной для всех медицинских вузов страны[5].
В то время к делу подготовки кадров для здравоохранения, включая интернатуру, подходили основательно, с глубоким пониманием существа задачи и жизненных реалий. Например, в 1982 году были предприняты серьёзные шаги по улучшению качества подготовки врачей-интернов, повышения степени их готовности к самостоятельной профессиональной деятельности. Было принято решение о проведении интернатуры в крупных республиканских, краевых, областных, городских больницах, больницах министерств и ведомств, а также центральных районных больницах мощностью не менее 400 коек, поликлиниках и диспансерах, имеющих не менее 25 врачей-специалистов. Комплектование учебных групп интернов осуществлялось в субординатуре с 5 курса обучения. Обеспечивалась готовность учебных баз и общежитий к началу учебного года. Руководители врачей-интернов стали в первоочередном порядке направляться на курсы и циклы повышения квалификации в институты (факультеты) усовершенствования врачей, где были организовано соответствующее обучение. Для них и для врачей-интернов ежегодно проводились учебно-методические конференции по специальностям. Для подготовки в интернатуре были разработаны типовые учебные планы и программы, готовилась учебно-методическая документация. Качеству подготовки врачей-интернов и их готовности к самостоятельной деятельности в первичных звеньях здравоохранения при анализе деятельности учреждений здравоохранения стало уделяться особое внимание[6].
Закопанное добро
В 1988-1991 годы был проведён эксперимент по т.н. «углубленной специализации врачей-интернов» на базе медицинских вузов, результатам которого стало повсеместное введение такой практики и её финансирование с 1993 года[7]. Так появилась альтернативная форма интернатуры, которую для простоты и по аналогии с клинической ординатурой стали называть «клинической интернатурой». Традиционную же интернатуру, проводившуюся на базе лечебно-профилактических учреждений, стали также для ясности называть «больничной».
С высоты минувших лет видно, что это было началом конца. Тогда же казалось, что разница между «клинической» и «больничной» интернатурой невелика и больше касается организационных и финансовых аспектов. На самом деле, разница принципиальна: либо врач-интерн является медицинским работником, в котором, в т.ч. по окончанию им интернатуры, заинтересовано первичное звено, либо он слушатель кафедры, который никому персонально и не нужен, а осваивает программу лишь ради допуска к настоящей работе. Первый исполняет трудовые обязанности и получает зарплату от работодателя, последний – учится и получает стипендию – к слову, мизерную. А если это учёба, то те, кому не досталось бюджетных мест, вольны учиться на платной основе, раз им это так нужно. В сопоставлении с «больничной» интернатурой платное обучение в «клинической» – это как платить за свою работу.
В последующие два десятилетия обе формы сосуществовали, хотя с конца девяностых[8,9] и особенно конца нулевых[10,11] интернатура в законодательстве всё дальше отходит от клинической практики, перерождаясь в сугубо академический процесс. Врачи-интерны фактически становятся слушателями в своеобразном, ориентированном на первичное звено одногодичном варианте ординатуры. Двойственность интернатуры закладывала проблемы на десятилетия вперёд. К примеру, «больничная» интернатура, как работа, должна входить в стаж работы по специальности и в общий трудовой стаж, а «клиническая» – нет, ведь это учёба, как и в ординатуре.
В конце концов, в 2011 году «больничная интернатура» была упразднена в пользу «клинической»[12]. А на следующий год в радикально обновлённом законодательстве о здравоохранении и об образовании было анонсировано её полное и окончательное, институциональное уничтожение. Правда, с пятилетним временным лагом[13а,14а]. Намерение упразднения интернатуры подвергалось все эти годы жёсткой критике со стороны медицинского сообщества, однако Минздрав, во многом благодаря поддержке в академической среде, сумел преодолеть сопротивление и завершить начатое[15]. Практическая реализация решения о ликвидации состоялась поэтапно в 2016-2018 годы[16].
Так была приговорена и казнена интернатура. Но была ли она исполненной жизни, цветущей на момент четвертования? Очевидно, нет. Она долго страдала, пытаясь приспособиться к рыночным условиям. Из бурной практической деятельности она выродилась в чахлый дополнительный учебный процесс – невнятное продолжение студенчества, и в препятствие к чему-то настоящему. В потерю времени. А сами врачи-интерны превратились из медицинских и фармацевтических работников, выполняющих свои трудовые обязанности под началом опытных специалистов, в слушателей, осваивающих образовательные программы. За пределами учебных стен они никого не интересовали.
Что взамен?
Оправдывалась ликвидация интернатуры заботой о скорейшем укомплектовании загибающегося от кадрового дефицита первичного звена выпускниками медицинских вузов, якобы готовыми к самостоятельной работе. Такую готовность планировалось обеспечить, среди прочего, за счёт возрождения и расширения субординатуры, выше мы о ней уже вспоминали.
Параллельно отраслевым руководством были анонсированы и другие новшества: внедрение модели трёхэтапной аккредитации и переход к поэтапному («дискретному», «модульному») обучению в ординатуре, которая при этом становилась бы доступной только после отработки выпускником определённого срока в первичном звене. Очевидно, решение об упразднении интернатуры было принято в парадигме перехода к т.н. Болонской системе.
От идеи полного запрета поступления в ординатуру без отработки выпускников в первичном звене отказались, однако в качестве препятствия она выступает через директивное ограничение числа мест в ординатуре по каждой специальности[17]. Отработка значительно повышает шансы на поступление через систему баллов, присуждаемых за «индивидуальные достижения», в которой именно практическая деятельность позволяет максимально получить конкурентное преимущество[18]. Ординаторы клинических специальностей в настоящее время могут осуществлять практическую деятельность в качестве врачей-стажёров[13б].
Идея поэтапного («дискретного») обучения в ординатуре также нашла своё отражение в законодательстве[14б]. По завершению каждого этапа ординатор вправе пройти государственную итоговую аттестацию с присвоением ему квалификации, позволяющей занимать определенную должность в системе здравоохранения. Т.о., отдельный, в случае её разбиения, этап ординатуры приближен к «клинической интернатуре», а возможность участия ординатора в медицинской деятельности в качестве «врача-стажёра» придаёт ей лёгкий налёт интернатуры «больничной».
Ещё одной суррогатной формой замещения «больничной интернатуры» стала отработка выпускников в первичном звене, как способ повысить свои шансы на получение «настоящей», «стоящей» специальности в ординатуре. К ней был подан соус «наставничества», о возрождении института которого в то время, как раз, везде заговорили, и ещё долго повсюду говорили, а концу прошлого года разговоры наконец довели до узаконивания оплаты труда наставников[19].
Как мы здесь видим, отраслевой регулятор старался воспроизвести пользу традиционной интернатуры раздельно в суррогатных формах, не вступающих в противоречие с парадигмой перехода к Болонской системе. Если выбросить из головы все сомнения в качестве подготовки выпускников, в их готовности к самостоятельной работе в первичном звене, то Минздрав мог рассчитывать на поддержание ими его минимальной работоспособности – по крайней мере, так ему, вероятно, казалось. Одна проблема: как загнать выпускников в поликлиники?
Отлучение от профессии
Собственно, у выпускника медицинского вуза в настоящее время есть три возможных пути: сразу поступить в ординатуру, отработать пару лет в первичном звене и потом поступить в ординатуру либо уйти из профессии. Уйти можно сразу, сдавшись без боя, или вначале помыкавшись с отработкой. Что касается ординатуры, то поступить можно на бюджет, по многостороннему договору на целевое обучение либо проучиться платно, принеся материальную выгоду избранному вузу или учреждению последипломного образования, а также государству.
Если проигнорировать вариант немедленного массового бегства выпускников из профессии (ну не зря ведь они 5-6 лет грызли гранит науки?) то вырисовывается следующий расклад. Для того, чтобы наполнить первичное звено выпускниками, достаточно резко обрезать квоты на поступление – это первое. Далее, логично, что чем меньше в ординатуре целевых и бюджетных мест, тем больше будет желающих поступить на платной основе. А для того, чтобы количество таких желающих было адекватно возможностям вузов, а их доходы при этом стали побольше, цену платной ординатуры следует задрать, как минимум, вдвое. Логично? Несомненно. Реализовано? Вполне.
Иными словами, то, что вызывало волны возмущения на протяжении семи лет, со стороны регулятора выглядело разумно. Но только если предположить, что массовому бегству выпускников из профессии не придавалось значения. И вот здесь-то наш регулятор и просчитался. Видимо, он учёл только «раннее» бегство, сразу после вуза, масштаб которого его не пугал. А все дошедшие до первичного звена выпускники по окончанию отработки, в его глазах, очевидно, должны были либо пытаться поступать в вожделенную ординатуру, либо оставаться трудиться в первичном звене. Суровая реальность больно наказывает за подобные просчёты.
В настоящее время отработка выпускников в первичном звене чаще имеет следствием отвращение их от профессии. Безумный безликий конвейер поликлиник, ложные приоритеты и выхолащивание врачебного дела, перегрузки и вынужденное совместительство, бесправие и беззащитность, низкие доходы, незаинтересованность руководства в создании им достойных условий труда (а зачем, если каждый год будут свежие поступления?), запредельная бюрократия и дотошный контроль, и т.д., и т.п.
Кто-то выдерживает и, в конце концов, поступает в ординатуру, но это не большинство. Но и в первичном звене мало кто остаётся. Работа здесь не является не то, что привлекательным, но вообще рассматриваемым вариантом врачебной карьеры!
Полноценной компенсации естественной убыли возрастных специалистов из системы здравоохранения не происходит, а в первичном звене в сложившихся обстоятельствах об этом не стоит и мечтать. Накопительный эффект год за годом ведёт первичное звено к кадровой катастрофе. Недаром становятся всё громче голоса, требующие вернуть распределение выпускников медицинских вузов и ввести драконовские штрафы для уклонистов из числа «бюджетников» и «целевиков».
Такие идеи, будучи реализованными, возможно дадут краткосрочный эффект – в основном, в виде двух-трёхлетнего относительно небольшого наплыва выпускников в первичное звено и, как следствие, сохранения ответственными чиновниками насиженных мест в этот период. Однако нет никаких сомнений в том, что в перспективе нескольких, не более пяти, лет они сделают кадровую катастрофу необратимой и окончательно добьют отрасль.
Заклинания на воскрешение
В конце февраля – начале марта сего года медицинское сообщество вновь всколыхнули слухи о возврате интернатуры. Да не абы какой, а «обязательной».
Вновь – потому что попытки возвращения интернатуры не новы. Само её упразднение, как было отмечено выше, прошло под аккомпанемент жёсткой критики со стороны медицинского сообщества, а сразу после свершившегося отовсюду начали выдвигаться предложения о возврате приснопамятного института. Профильный комитет Госдумы даже разрабатывал соответствующий законопроект. Причём, подступались депутаты к этой проблеме с 2018 года неоднократно.
Вот и на этот раз медицинское сообщество получило обнадёживающее известие о том, что в недрах Госдумы при поддержке Национальной медицинской палаты (НМП) вызревает очередной законопроект о возвращении интернатуры, который, к тому же, обещают рассмотреть чуть ли не в весеннюю сессию[20]. В комментариях представителей НМП обращает на себя внимание акцент на необходимости практической подготовки выпускников медицинских вузов к самостоятельной работе в здравоохранении. Т.е., в НМП под возвращением интернатуры явно подразумевается её традиционный «больничный» вариант.
Минздрав отреагировал на очередной накат ретроградов своеобразно. Министр в ходе «Правительственного часа» в Госдуме идею «потери»(!) выпускниками «целого года» на практическую подготовку отверг, однако согласился на некое «сопровождение» вузами отрабатывающих в первичном звене выпускников. Причём, неведомое по своему содержанию «сопровождение» возможно, с его слов, пока лишь «теоретически»[21]. Насколько можно судить по скудным крупицам дошедшего до нас смысла, речь идёт о неком обременении вузов ролью неведомо на каких основаниях курирующей нашлёпки к выпускнику в период его отработки в первичном звене. Это единственный признак в предложениях министра, вызывающий смутные ассоциации с интернатурой, и только лишь с её «клиническим» вариантом. А на возможность возврата к её «больничному» варианту не было и намёка.
Итак, Госдума, НМП и Минздрав вкладывают в словосочетание «возвращение интернатуры» совершенно различный смысл, а их представители произносят разные заклинания, местами звучащие знакомо и даже разумно, местами – как невнятная тарабарщина. Но, вдруг сработает? Чего мы можем ожидать от «обязательной интернатуры»?
Вопросы эксгумации
Идея «сопровождения» вузами залетевших в первичное звено выпускников пока, без оформления во внятную модель, производит странное впечатление. Допустим, вузы будут обременены в этом плане. Это значит, что у молодого работника, помимо наставника на рабочем месте, появится некий академический куратор. Чем он будет заниматься, какими правилами и программами руководствоваться, и на какие средства, совершенно неясно. Как и то, что ему будет должен а, главное, с какой стати должен вчерашний выпускник – сегодняшний работник медицинской организации, в которой он получает зарплату за выполнение своих трудовых обязанностей.
Чтобы всё более-менее заработало, мутное «сопровождение» потребуется, всё же, оформить в достаточно ясный учебный процесс. Этот путь неизбежно приведёт к той же «клинической интернатуре». Сиё означает, что статус выпускника от нынешнего врачебного откатывается назад до ученического, практически студенческого. Ему нечего больше делать в клинике, его место – в стенах вуза. Зарплату он более, до окончания интернатуры, получать не должен, а должен получать стипендию. И не исключено, что он и вовсе будет обучаться на платной основе. Ему, сегодняшнему начинающему врачу, оно надо? А медицинской организации? Боюсь, кроме вузов, такое не нужно никому, да и им не особо – их вполне устраивает ординатура, лишь бы доставало квот от министерских щедрот. Зачем делать из молодых активных сограждан с высшим образованием ненужных людей, пусть и всего на год? Этот бесполезный год может запросто обернуться разочарованием в профессии.
Отсюда, если и говорить о возврате интернатуры, то исключительно «больничной». Технически реализовать её несложно и в существующих условиях. Для этого достаточно отнести к интернатуре первый год нынешней послевузовской отработки в первичном звене. И, конечно, всё вновь настроить, как было когда-то. Самое главное – заинтересовать самих интернов, их руководителей и всех сопричастных в качественной практической подготовке. Удивительно, но и это решаемо, поскольку не имеет принципиальных отличий от существующей модели послевузовской отработки с заработной платой и наставничеством.
Ещё один важный вопрос, требующий внимания, заключается в том, должна ли быть такая интернатура обязательной. Его рассматривают обычно в плане принуждения выпускников к отработке в первичном звене, как форму такой отработки. Однако целесообразно взглянуть на него под другим углом: может ли интернатура быть альтернативой ординатуре? И мы вновь возвращаемся к тому, что ответ на него зависит от варианта интернатуры: «клиническая» интернатура является по существу преимущественно учёбой и быть альтернативой клинической ординатуре может, а «больничная» интернатура, как преимущественно работа, нет. Соответственно, об обязательности «клинической интернатуры» не может быть и речи. А вот «больничная» вполне может быть обязательным этапом, предшествующим самостоятельной работе в первичном звене, никак не препятствующем последующему поступлению в ординатуру.
Возрождение «обязательной» интернатуры в «больничном» варианте, т.о., возможно. Только вначале нужно убедиться, то у неё есть хоть какие-то шансы на жизнь. А для этого придётся вспомнить о том, что привело её на эшафот, хоть это и неприятно. Тогда действовали определённые факторы, приведшие её к гибели. Присутствуют ли они сегодня? И не добавилось ли к ним новых?
Мёртвому – припарки
Первый и главный фактор – карьерная привлекательность первичного звена здравоохранения. Может ли молодой и амбициозный, уже взявший довольно высокую планку выпускник медицинского вуза желать здесь остаться? Станет ли он планировать свою жизнь с прицелом дальнейшей постоянной работы в поликлинике или в заурядном стационаре? И находить её при этом достаточно престижной, чтоб не стыдно было перед друзьями? Какой для него в такой карьере есть или может быть смысл?
Престиж работы в первичном звене в советское время определялся в главном своём содержании служением. Точнее, осознанным выбором такой работы, как своего способа служения социалистическому обществу. Дополнительными факторами, удерживающими специалистов в первичном звене, выступали массовость – большинство специалистов здравоохранения трудились именно в первичном звене, стабильность, социальные гарантии, адекватные условия труда и, по возможности, быта. Специалист первичного звена был продуктом планового массового «производства» в соответствии с расчётными потребностями здравоохранения. Которые, правда, всегда оставались выше реального наполнения, хотя и не настолько сильно, как мы наблюдаем сейчас.
В то же время, при наличии тяги к научной работе или к ному варианту карьеры практика – работе в определённой службе, в конкретном месте или по узкой специальности, пойти по такому пути также было возможно. Однако в таком случае в расчёт необходимо было принимать факторы, определяющие реалистичность подобных притязаний. Важно, что различные варианты карьеры специалиста здравоохранения в советское время не приводили к выраженному расслоению ни в материальном отношении, ни в плане престижности. А если и приводили, такое не афишировалось.
Всё это осталось в прошлом. Без-воз-врат-но. С переходом к рыночной экономике меняются и приоритеты, а если объективных изменений не принимать, то и на результат рассчитывать не стоит. Реальность жестоко наказывает тех, кто её игнорирует. Жуткий кадровый голод в первичном звене свидетельствует о неадекватной рыночным реалиям отраслевой кадровой политике.
Ставка на осознанный выбор служения обществу в первичном звене больше не работает, а когда и работает, то недолго. Поток в несколько десятков «потребителей медицинских услуг» в день расправится с наивным идеализмом за пару недель. Для того, чтобы специалисты здесь оставались, ныне нужны иные аргументы.
Этот момент имеет принципиальное значение и требует пояснения. Приоритет служения возможен и сегодня, да только немыслим в виде обслуживания общества потребителей. Государева служба – да, конечно, со всеми её преференциями и долженствованиями. Но превращать в неё работу в первичном звене никто не спешит. Максимум, до которого доходит мысль провалившихся стратегов – пустая вредоносная атрибутика, без труда угадываемая в навязчивой идее принудительной отработки выпускников медицинских вузов по распределению.
Подобные дискриминационные предложения только отвращают молодёжь от медицинской стези. А теми, кто её, вопреки всему или по незнанию, выбрал, работа в первичном звене представляется исключительно как необходимое зло, как несправедливая обуза и барьер, преграждающий путь к настоящей карьере. И чем больше призывов к принуждению выпускников к отработке они слышат, тем прочнее укрепляются в своём восприятии: врач первичного звена – это лузер, бездарь, неудачник и слабак.
В либеральной системе на первое место выходят фактические условия труда. Конкретные, осязаемые материальные выгоды, достойный социальный статус, адекватная нагрузка, приемлемый риск. Следует признать, что высшее руководство страны немало делает в этом отношении, как непосредственно, так и через отраслевое и региональное управление. Нельзя также сказать, что проблему не осознают и в Минздраве. Напротив, действующий министр демонстрирует понимание особенной важности условий труда для привлечения и удержания молодых специалистов[22].
Однако радикальных, определяющих шагов в сторону улучшения условий труда мы не наблюдаем. Очевидно, прилагаемые организационные усилия и выделяемые средства недостаточны даже для поддержания устойчивости существующей модели.
Куда ни кинь – всюду клин
И порочные круги повсюду. Например, потогонная система, при которой более-менее зарабатывать в первичном звене можно только в режиме колоссальной перегрузки, поддерживает сама себя. Кадровый дефицит в условиях хронического финансового дефицита позволяет сохранять рентабельность и обеспечивает приемлемый уровень заработных плат.
И, вот ещё. Первичное звено пока остаётся «днищем» системы здравоохранения, от которого можно оттолкнуться, но жить на котором нельзя – неразумно, недостойно, невыгодно, вредно и опасно. И поскольку оно так, все вложения в него приводят, всего лишь, к повышению общеотраслевой карьерной «базы». Они дают краткосрочный эффект, после чего благополучно перекачиваются на более высокие уровни системы, а там чем выше, тем меньше собственно медицины и практикующих медиков, но больше странных людей и их интересов.
Или, вот ещё. Вынужденная отработка из года в год нагоняет в первичное звено выпускников, которые в большинстве своём не планируют здесь задерживаться лишнего, а если кто изначально и был не против остаться, то быстро освобождается от иллюзий и даёт дёру при первой возможности. Однако администрации учреждений здравоохранения – их реципиентов нет никакого резона прилагать даже минимальные усилия по их закреплению, не говоря уже о прививании любви к своему делу. Во-первых, потому что усилий, с такими-то исходными, требуется, очевидно, слишком много для их скудных бюджетов. А во-вторых, взамен сбежавших на следующий год им пригонят новых выпускников – беспокоиться не о чем. Такая практика перемалывания врачебного «сырья» в бесперспективную труху повсеместно распространена и успела глубоко укрепиться.
При желании, можно продолжать и продолжать. Однако проще принять тот очевидный факт, что все факторы, обусловившие упразднение интернатуры, никуда не делись, они действуют и сегодня. Они по-прежнему сильны, а некоторые стали за последние годы ещё сильнее. И к ним добавились новые, и среди них обнаруживаются более чем серьёзные.
Например, культура руководства врачами-интернами в медицинских организациях. Её больше нет. Совсем нет. Как и, в большинстве своём, уже нет её носителей – опытных грамотных специалистов первичного звена, умеющих объяснить, влюблённых в своё дело, верных ему и готовых прививать эти качества молодым, а не только формально учить их чему-то. Их, будущих конкурентов, по большому нынешнему счёту. Отсутствие культуры непременно будет компенсировано – ворохом дополнительной отчётности и новыми поводами для контроля.
И куда деться от потребительского экстремизма и «борьбы с ятрогенными преступлениями», от штрафов в системе ОМС за любой огрех вне зависимости от его клинической значимости, от дотошного контроля соблюдения мириад предписаний с раздуванием любого выявленного нарушения до вселенских масштабов? Руководителям врачей-интернов советского времени такое жуткое давление и в страшном сне бы не снилось, какое приходится испытывать нынешним врачам[23,24].
«Прилететь» может в любой момент и за что угодно. Кто в здравом уме захочет отвечать ещё и за чужие, абсолютно неизбежные в начале врачебной карьеры, ошибки? И если даже законодательно урегулировать распределение ответственности между врачами-интернами и всеми другими участниками процесса оказания медицинской помощи, оно не спасёт от абсолютного роста внешнего давления на врачебную работу, с которым, похоже, никто и ничего делать не собирается.
Так, что же делать с трупом интернатуры?
Можно закопать его обратно и продолжать ностальгировать. Это самое простое! И, к тому же, приятное – если не смотреть в окно, на подыхающую в сточной канаве измождённую старуху первичного звена.
Можно продолжать произносить над ним заклинания, и даже дёргать за верёвочки, имитируя жизнь. Но тут есть риск ненароком что-нибудь оторвать – и не только от него. Да и смердит. Зато, этим можно заниматься сколько угодно, хоть триста лет, причём с неизменным вниманием публики.
Или же можно подвергнуть систему здравоохранения радикальному оздоровлению, вследствие которого мертвец интернатуры сам прорастёт новой жизнью в цветущем первичном звене.
Только сделать это в рыночных условиях дёшево не выйдет. И не только в финансовом и ином материальном отношении, но, прежде всего, в интеллектуальном и духовном. Последнее открывает политикам новые горизонты. Однако я бы предостерёг от радужных надежд. Одно дело говорить о деле, а другое – вкладываться в него без остатка. Всяк, достигший высот, от себя отрывать не привык. Так что, пока всё наблюдаемое «возрождение» больше напоминает карго-культ советской системы, чем надёжное системное решение реальных проблем обеспечения первичного звена здравоохранения квалифицированными кадрами.
Использованные материалы:
- Таевский А.Б. «Утопия прямого доступа». – Здрав.Биз, 92.
- Постановление Совета Министров СССР от 10 февраля 1967 года № 130 «Об организации в виде опыта одногодичной специализации (интернатуры) выпускников ряда медицинских институтов» (утратило силу).
- Постановление Совета Министров СССР от 5 июля 1968 года № 517 «О мерах по дальнейшему улучшению здравоохранения и развитию медицинской науки в стране» (утратило силу).
- Приказ Министра здравоохранения СССР и Министра высшего и среднего специального образования СССР от 4 сентября 1972 года № 730/670 «Об утверждении Положения об одногодичной специализации (интернатуре) выпускников лечебных и педиатрических факультетов медицинских институтов и медицинских факультетов университетов» (утратил силу).
- Распоряжение Совета Министров СССР от 9 августа 1974 года № 2052.
- Приказ Министерства здравоохранения СССР от 20 января 1982 года № 44 «О мерах по дальнейшему улучшению подготовки врачебных кадров в интернатуре» (с положениями «Об одногодичной специализации (интернатуре) выпускников лечебных, педиатрических и стоматологических факультетов медицинских институтов и медицинских факультетов университетов»), ред. от 20.01.1982 (утратил силу).
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 июня 1992 года № 173 «О введении углубленной специализации врачей-интернов».
- Федеральный закон от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (утратил силу).
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 июля 1997 года № 217 «О совершенствовании послевузовской подготовки кадров в интернатуре» (утратил силу).
- Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании».
- Федеральный закон от 24 октября 2007 года № 232-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего профессионального образования)» (утратил силу).
- Письмо Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 июня 2010 года № 16-3/10/2-5048 «Об итоговой аттестации врачей-интернов».
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в т.ч.:
а) исходная редакция;
б) действующая редакция. - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в т.ч.:
а) исходная редакция;
б) действующая редакция. - «Отмена интернатуры – необходимость, а не прихоть чиновников». – Интервью ректора Первого МГМУ им. И.М. Сеченова П.В. Глыбочко Интернет-порталу «МедНовости».
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 февраля 2016 года № 127н «Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов» (Зарегистрирован 14.03.2016 № 41401).
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 сентября 2013 года № 633н «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по программам ординатуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2014 N 32255) (утратил силу).
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 мая 2017 года № 212н «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2017 N 46976) (ред.от 20.10.2020).
- Федеральный закон от 9 ноября 2024 года № 381-ФЗ «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации».
- «В Нацмедпалате сообщили об обсуждении возврата обязательной интернатуры». – Медицинский вестник, 26.02.2025.
- «Мурашко допустил возвращение интернатуры в формате сопровождения молодого врача его медвузом» – Медицинская Россия, 05.03.2025.
- «Кадровое обеспечения медицинских и образовательных организаций». – Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, «Правительственный час» 5 марта 2025 года.
- Таевский А.Б. «Управление качеством в системе врач-пациент. Часть II. В перекрестии прицела». – Здрав.Биз, 305.
- Таевский А.Б. «Потребительский крест медицины». – ЗдравЭкспертРесурс, 187.
Для цитирования:
Таевский А.Б. О воскрешении интернатуры и проблемах первичного звена здравоохранения. – ЗдравЭкспертРесурс, 200, https://www.zdrav.org/index.php/resursy-zdravoohraneniya/200-voskreshenie-internatury.
Всегда ваш, Андрей Таевский.
Обсудить в Телеграм
Обсудить вКонтакте
Каталог решений Здрав.Биз.